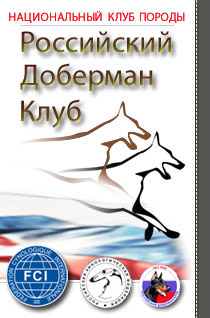Артист московского Художественного театра В. И. Качалов, вспоминая первую
встречу с Есениным, состоявшуюся весной 1925 года, пишет: « Часам к двенадцати
ночи я отыграл спектакль, прихожу домой... Небольшая компания моих друзей и
Есенин сидят у меня... Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той
самой собаки, которой Есенин потом посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре
месяца. Я вошел, увидел Есенина и Джима - они уже познакомились и сидели на
диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею,
а другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: "Что за лапа, я сроду не
видал такой".
Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из подмышки Есенина и
лизал его лицо; Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот
продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да
постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты,
как пьяный, все время лезешь целоваться! » — бормотал Есенин с широко
расплывшейся детски лукавой улыбкой... .
..Сидели долго. Пили. О чем-то
спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не
был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с о чем-то спорил,
на что-то жаловался.
Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из
любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим
внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему
лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу
стихи. Приду домой и напишу»...
...Прихожу как-то домой - вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли..."
Качалов вспоминал об одном визите к нему в гостиницу, произошедшем во время
бакинских гастролей МХАТА в мае 1925 года: «Приходит молодая, миловидная смуглая
девушка и спрашивает: «Вы Качалов?» - «Качалов», - отвечаю. «Один приехали?» -
«Нет, с театром». - «А больше никого не привезли?» Недоумеваю: «Жена, - говорю,
- со мной, товарищи.» - « А Джима нет с вами?» - почти воскликнула. «Нет, -
говорю, - Джим в Москве остался». - «А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в
больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: « Вы не знаете,
что это за собака! Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров.
Пожму ему лапу - и буду здоров, буду с ним купаться в море.» Девушка передала
записку и отошла от меня явно огорченная: «Ну что ж, как-нибудь подготовлю
Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима».
"...А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу:
— Расскажи, что и как Сергей.
— Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад,
его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму — обязательно.
— Ну, — говорю, — выпьем за его здоровье. Чокнулись.
— Пьем, — говорю, — за Есенина.
Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два — два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.
— Кланяется тебе Есенин, — сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. Даже повторил: — Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин.
Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина,
— и он даже не покосился в мою сторону.
Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере».
Так и не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой гостьи, «что всех безмолвней и грустней», которую так упорно и мучительно ждал Есенин. «Она придет, — писал он Джиму, — даю тебе поруку".